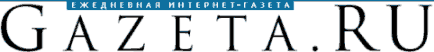
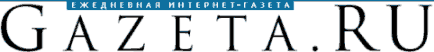
|
Опубликовано в Gazeta.Ru от 28-06-1999 (Выпуск No 080) Оригинал: http://gazeta.ru/knigi/28-06-1999_bojenev.htm |
Б.Божнев. Борьба за несуществованье. Собрание стихотворений. - СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. - 320 с., тираж 800 экз., ISBN 5-87135-073-9.
Поскольку поэт - самое субъективное и своевольное из терпимых обществом предприятий, постольку пытаться отнестись к поэту объективно (или пуще того - бесстрастно) - значит в некотором роде превращать его в вещь. Ибо говорил Алексей Крученых: "Чем субъективней, тем объективней". И опять он, но уже как предтеча "несуществованья": "Я в зеркале не отражаюсь".
Персонально у меня основания для личного отношения к поэту Борису Божневу явились с третьей страницы вступительной статьи к его "Борьбе". Там я прочел, что он родился в Ревеле. То есть мы оказались земляками, хотя я и родился в Таллине. Правда, представить, как мы, хоть и в разные исторические эпохи, бродили по одним и тем же улочкам, не удалось, - ибо, когда Борису исполнился годик, родители перевезли его в Петербург, а в 1919 году и вовсе отправили учиться в Париж. Учеба у него не заладилась, но возвращаться в Россию он тоже не стал. Иными словами, Божнев - поэт-эмигрант. Хотя с советским гражданством, подобно Ремизову, не расстался.
Я тоже не сделал этого, просто вскорости после 1991 года переплавил его на российское, выполнил пятилетку "эмиграции" за шесть лет - и был таков. Но прежде, еще лет 25 назад, успел воспользоваться преимуществами Советской Эстонии в деле знакомства с литературой эмиграции первого призыва, прочитав номер за номером "Современные Записки", "Волю России" и т.п. журналы и альманахи. Где-то в одном из них (в "Числах"?) мне попались стихи, которые я не смог не переписать в заветную тетрадку. Имя поэта - Борис Поплавский - стало мне что-то говорить только годы спустя. С их течением в мое сознание вошли и имена других эмигрантских поэтов: Кнут (хлестко!), Терапиано (эффектно!), Мандельштам (понятно почему). Божнев наверняка попадался, но ничем, надо понимать, не запечатлелся. Что же изменилось после прочтения, хочется верить, репрезентативного изборника?
Был, помнится, такой реальный персонаж ХIХ века, помещик, который изо дня в день, регулярно - за завтраком, за обедом и за ужином - оповещал своих ближних о том, что он вот-вот помрет. Продолжая, понятно, при этом циклически завтракать, обедать и ужинать. У Божнева 20-х годов ХХ века вычитываем то же: "О, смерть моя...Мы здесь наедине...", "со смертью близкой все еще хитря", "я камнем упаду на камни" и т.п. Умер он сильно погодя - в 1969 году - от гриппа. Так что реализованной оказалась не одинокая метафора "несуществованья", а равнодушное, но справедливое общее место: "Со смертью не шутят". И это не мораль - она здесь неуместна, а печаль: когда слова поэта суть не дела его, а безделки (в данном случае - "страшилки"), они начинают "дурно пахнуть", т.е. мстят поэту на его же поле, в его же улье. Поэтому в остатке мы видим сухую инверсию: вместо слов о смерти - мертвые слова.
С окружающей действительностью (нет, не в смысле политики, с нею мало что понятно) у Божнева, судя и по стихам, и по штрихам биографии, были нелады, которые он пытался вуалировать житейским герметизмом, но которые всплывали в стихах в минуты герметизма стоячего как "Для будущей храмины Божьей / Я - первый праведный кирпич" (заодно - "праведный кирпич" - обычный для этого поэта пример авторской глухоты), а в минуты герметизма лежачего - как "О, вся нечистота на мне одном". Есть и синтетические образцы - "я" оказываюсь хорош именно потому, что "я" плох (христианский перевертыш). Соблазн смерти на словах должен сторожить таких людей, которые буквально разводят "посюстороннее" и "потустороннее": их дуальное сознание (провозвестник сознания разорванного) приписывает смерти то, что недодала им жизнь - или, вернее, то, что они ей недодали.
Судя по биографической канве, Божнев и не совершал в своей жизни серьезных самостоятельных поступков - то его перевозили, то он вынужденно бежал, а к жене, которая уехала в Израиль в 1947-м, двадцать лет собирался перебраться, но так и умер там, где она его оставила. Он определенно терзался своей разобранностью - "несделанность" его стихов служит порукой его тяжелой искренности. Впрочем (хотя хронологически здесь ничего не выстроить - какие-либо даты к стихам в "Собрании" отсутствуют), моментами эта искренность из тяжелой превращалась в болезненную, психически болезненную (отсюда, полагаю, и ведет свое происхождение разоблачаемый составителем миф, будто Божнев умер в сумасшедшем доме). Дело в том, что смерть в стихах Божнева соположена любви, нежности, творчеству, блаженству и - дефекации и уринированию: "С тобой ходил я всюду... / С плакатами о нежности и смерти", "В твоих объятьях можно умереть / От нежности", "пишу стихи при свете писсуара", "по кладбищу хожу веселый" и - в виде, который непременно должен был фраппировать эмигрантских дам из "бывших":
Я на сыром полу... Очнулся вдруг...
А смерть... сидит... под медною цепочкой...
И попирает... деревянный круг...
И рвет газеты... серые листочки...
С натуралистической точки зрения происходящее легко объяснимо: и смерть, и дефекация суть освобождение. Если Божнев был вдруг еще и платоническим копрофагом, то, следовательно, о вкусе плодов свободы он не знал ничего и мог предполагать о нем все что угодно. Например, заявлять, что от вида земли или зари у него "вялый(!) трупный привкус" во рту. Ручаюсь - человек, знакомый со здоровым трудом на свежем воздухе, до такого ни за что и никогда не додумается. Божнев же, если выходил на вольный воздух или на люди, то явно в чем-то вроде домашних (больничных?) тапочек и халата: "А ноги пачкаются калом / Травы, песка или камней", с итоговой для этого стихотворения готовностью умереть, не сумев ступить и шага среди земных и небесных нечистот.
Можно, конечно, сослаться на "Падаль" Бодлера как на предшественницу. Но, поскольку для такой ссылки у меня нет никаких сопроводительных данных, приходится оставаться при Божневе и констатировать неминуемое при душевном расстройстве - распад сознания и, как следствие, распад стиха.
Обычно тексты Божнева весьма коротки, часто укладываются в те восемь строк, каковые Блок полагал достаточными для того, чтобы высказаться в лирическом стихотворении. Но есть и исключения. Самым большим из тех, что представлены в "Собрании", является поэма "Silentium Sociologicum", название которой мне хочется перевести как "Народ безмолвствует" и которую я решительно отказываюсь понимать. Хотя во вступительной статье и приведены отклики современников, в частности, находивших в ней "сознательно задуманный и твердо выполненный опыт" на тему "молчания" и "высказывания" в искусстве. Если сильно напрячься над текстом поэмы, то следует, видимо, понять, что молчание лучше высказывания (Тютчев был почитаем Божневым). Но для этого придется пробираться сквозь "Бегут по коже мириады роз, / Всевидящие, но глухонемые" и "святых серег незримый ореол", вплоть до финального "Пока в могиле не совьет гнезда / Молчания вознесшаяся птица". Думаю, что метаметафористы здесь ни при чем. А ссылка на сюрреалистов будет уместной только в связи с их призывом выпустить на волю обитателей психиатрических лечебниц. В лучшем случае - как законных наследников Божнева - я готов вспомнить отдельных рок-поэтов с их многозначительной невнятицей ("У меня есть дом, только нет ключей" и т.п. - конечно, попроще, но таков и должен быть герметизм популистский).
Мышление оппозициями, свойственное Божневу-поэту, вообще-то требует от сознания очень четкого представления о том, где именно "живут" члены противопоставления. Иначе можно сильно ошибиться этажами, и выйдет не оппозиция, а сапоги всмятку. Божневу противопоставления - вроде попытки попрать вдохновительницу Музу адом и Страшным судом - не удаются даже в относительно внятных стихотворениях, что, скорее всего, обычно для разорванного сознания (оно же в случае Божнева - разом и "несчастное"). Это не исключает, возможно, даже наоборот, - делает неизбежными отдельные удачи тогда, когда никакое противопоставление не предполагается (об одиноком фонтане: "О, ниспаданье острия / Меланхолической дугою..."). Однако общий итог, судя по последним текстам "Собрания", все равно выходит печальный:
Прибавился сияющий этажик
На всех лачугах и на всех домах,
А жизнь в них продолжается все та же:
Светло в природе, но темно в умах.
Читая это, как говорится, нельзя не вспомнить когдатошнего одесского градоначальника Коссовского-Невральгина, который в свободное от работы время активно графоманил (т.е. писал, видя только слова и не видя того, что за ними):
Поэту днем видна ехидна,
Поэту тьмой поэта видно.
Отчего ответ на вопрос, поставленный в начале, - "Что же изменилось в моем отношении к Борису Божневу после прочтения его первого сборника, изданного в России?" - приобретает вид: помнить нельзя забыть. Слишком все всерьез, чтоб воспринять как курьез, и слишком все курьезно, чтоб отнестись серьезно. Тоже, между прочим, стихи.
Напоследок неизбежное - о справочном аппарате. Комментарии к "Борьбе за несуществованье" страдают обычным свойством скороспешных изданий (а именно таким оно мне представляется) - в них растолковывается, кто такие Андерсен и Диккенс (это для восьмиста-то потенциальных читателей), и не объясняется, как можно писать стихи при свете писсуара. Лично мне, по привычке не успокаиваться в тупиковых ситуациях, вспомнилась картинка, которую когда-то удалось застичь в отхожем месте таллинского пивресторана "Пярну": на стульчике перед писсуаром сидит старичок и, застенчиво оглядываясь по сторонам между приступами рвоты, блюет в него. Понятно, что это не комментарий, а всего-навсего ассоциация, но что делать, если стихи порождают сначала ассоциации и только потом - комментарии?
| Пишите нам: info@gazeta.ru Copyright © Gazeta.Ru |
| При перепечатке и цитировании ссылка на источник с указанием автора обязательна. Перепечатка без ссылки и упоминания имени автора является нарушением российского и международного законодательства, а также большим свинством. |