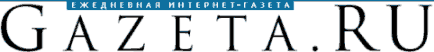
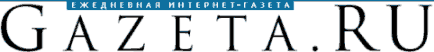
|
Опубликовано в Gazeta.Ru от 04-08-1999 (Выпуск No 107) Оригинал: http://gazeta.ru/frei/04-08-1999_agota.htm |
"Насчитаете в романе пяток эпитетов - повезло. Эпитет - это субъективное, а субъективное = эмоциональному, а переживание = в этой жизни смерти".
О. Кустова, "Прямой порядок слов" (предисловие к роману Аготы Кристоф "Толстая тетрадь").
Символично, что самая безжалостная книга уходящего тысячелетия была написана незадолго до его окончания, в 1986 году. Не менее символично, что она написана женщиной. Даже комичное сходство имени Аготы Кристоф с именем другой (тоже, кстати сказать, весьма безжалостной леди) Агаты Кристи тоже вполне символично. Агата всю жизнь выдумывала занимательные истории о меркантильных отравителях; Агота поступила проще: она попробовала пересказать жизнь "близко к тексту", писать правду и только правду. "Голую, бля, правду", - как сказал бы Баян Ширянов, незабвенное яблочко раздора русской сетературы. Ее истории занимательными не назовешь: они слишком правдивы (отвратительно правдивы), чтобы быть занимательными.
"Всякое человеческое существо рождается, чтобы написать книгу, и ни для чего другого. Не важно, гениальную, или посредственную, но тот, кто ничего не напишет - пропащий человек, он лишь прошел по земле, не оставив следа".
Что ж, Агота Кристоф идет по земле, оставляя следы - и какие! Прочитав первые страницы романа "Толстая тетрадь", я понял, что в моих руках оказалась книга, которую я очень долго ждал - до этого дня, впрочем, я понятия не имел, что жду чего-то, просто жил себе и жил на белом свете... Как оказалось - в ожидании книги Аготы Кристоф, которая звучит обвинительным приговором человеческой природе, человеческой жизни и человеческой литературе.
Заинтригованный не столько благоговейными отзывами нескольких критиков, сколько забавным созвучием ее имени с именем Агаты Кристи, я открыл "Толстую тетрадь" в вагоне метро... и с трудом заставил себя закрыть эту книгу двадцать минут спустя, невольно досадуя на то, что живу так непростительно близко от центра Москвы (двухчасовая поездка на электричке была бы сейчас как нельзя более кстати). Посвятить "Толстой тетради" несколько сотен эпитетов в превосходной степени - путь соблазнительный, но нелепый, поскольку, как верно заметила автор предисловия к русскому изданию романа: "эпитет - это субъективное, а субъективное = эмоциональному, а переживание = в этой жизни смерти." Поэтому постараюсь быть сдержанным - насколько это возможно.
Очарованный, почти испуганный вызывающей простотой авторского синтаксиса (подлежащее + сказуемое + дополнение - это все!) - я вдруг понял, что больше всего язык романа похож на удачную попытку перевода на человеческий язык с какого-то совершенно нелюдского наречия - то ли марсианского, то ли муравьиного). Люди так не разговаривают; тем более, мы так не пишем. Никто - кроме Аготы Кристоф и ее героев. Первое рациональное объяснение, которое приходит в голову: так и только так можно написать хорошую книгу на языке, который не является для тебя родным (венгерка Агота, давно переселившаяся в Швейцарию писала "Толстую тетрадь" по-французски). Но я решительно отметаю эту версию: как почти все попытки рационально объяснить нечто невероятное, она гроша ломаного не стоит.
"Инопланетный" язык Аготы Кристоф уместен хотя бы потому, что ее герои, близнецы Клаус и Лукас (которые к третьей части неохотно, но неизбежно сольются в одного Клаусса Лукаса), с самого начала производят впечатление существ совершенно чужих на этой земле, извлеченных из какой-то иной реальности и заброшенных в наш мир. Ужас повседневного бытия в "здесь и сейчас" военной и послевоенной Европы не убивает их, но принуждает принимать решительные меры - чтобы выжить. Они делают специальные упражнения, чтобы "привыкнуть" к жизни. Некоторые главы первой (и самой сильной) части романа так и называются: "упражнение на закалку тела", "упражнение на закалку духа", "упражнение просить милостыню", "упражнение на голод", "упражнение на жестокость".
"Бабушка называет нас "сукины дети".
Люди говорят нам: "Ведьмины дети! Шлюхины дети!"
Другие люди говорят нам: "Идиоты! Хулиганы! Грязные мальчишки! Засранцы! Грязные щенки! Свиньи! Поросята! Ведьмино отродье! Наглецы! Поганцы! Висельники!"
Когда мы слышим такие слова, у нас краснеют лица, звенит в ушах, глаза щиплет, а колени дрожат.
Но мы не хотим больше ни краснеть, ни дрожать. Мы хотим привыкнуть к ругани и оскорблениям, к разным злым словам.
Мы садимся за кухонный стол друг против друга и, глядя друг другу в глаза, говорим все более злые и плохие слова. Один из нас говорит:
- Дерьмо! Засранец!
Другой говорит:
- Педик! Гомик!
Мы говорим так, пока слова не перестают доходить до нашего сознания. Даже до наших ушей.
<...>
Так мы повторяем эти слова снова и снова, и постепенно они теряют свое значение, и боль, которую они приносят, понемногу забывается".
Поначалу кажется, что этих двоих уже невозможно вывести из равновесия, испугать, или шокировать. Старшие дети обижают их - что ж, можно изготовить оружие (носки, набитые песком и щебнем, заточенные камни и даже бритва, найденная на чердаке), а уж решимости пустить оружие в ход близнецам не занимать (после "упражнений на жестокость" они готовы на все). С неземным спокойствием они наблюдают, как уродливая соседская девочка Заячья Губа "играет" (проще говоря, трахается) с собакой (возможно, это самая шокирующая сцена романа, но на героев Аготы Кристоф она не производит решительно никакого впечатления). Их нравственный закон велит им накормить того, кто хочет есть, и убить того, кто хочет умереть - и то, и другое близнецы проделывают обстоятельно, последовательно и равнодушно, не ожидая благодарности, не опасаясь наказания, не терзаясь муками совести, не обременяя себя размышлениями о моральной подоплеке собственных поступков.
И все же - невероятно, но факт - они проиграли свое сражение. Необыкновенные существа стали взрослыми людьми, усталыми и сломленными (или одним взрослым человеком - в данном случае вопрос, сколько было мальчиков: один или все-таки двое, - не имеет решительно никакого значения). Последнее упражнение, упражнение на полное одиночество, оказалось слишком сложным. Скелеты на чердаке, безумные женщины и дети-калеки - не самая лучшая компания для того, кто вознамерился совершить путешествие, именуемое человеческой жизнью.
"Я говорю ему, что жизнь совершенно бесполезная, ненужная вещь, это бесконечное страдание, выдумка Не-Бога, злобность которого непостижима."
Жить - больно; полагаю, это может засвидетельствовать каждый, кто пробовал быть живым. "Привыкнуть к жизни" оказалось невозможно. Для Клаусса Лукаса (Клауса и Лукаса?) это стало катастрофой; мне же сулит какую-то странную надежду, сформулировать которую я не решаюсь...
| Пишите нам: info@gazeta.ru Copyright © Gazeta.Ru |
| При перепечатке и цитировании ссылка на источник с указанием автора обязательна. Перепечатка без ссылки и упоминания имени автора является нарушением российского и международного законодательства, а также большим свинством. |