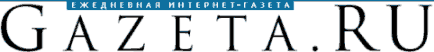
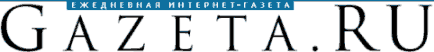
|
Опубликовано в Gazeta.Ru от 04-06-1999 (Выпуск No 064) Оригинал: http://gazeta.ru/society/04-06-1999_stihi.htm |
Протокол
"Похоже на сирень. Но не сирень," -
Решает полисмен, в окошко глядя.
Он так проводит свой воскресный день.
На оттоманке труп. Не то чтоб дядя.
Скорее паря. Блёклое лицо,
Припухшее от смерти и от пива
(Соображает полисмен), красиво.
На безымянном - чёрное кольцо.
Какой-то знак?.. И склянка на полу
И мышьяка восточный дух миндальный.
Так умер Чаттертон, поэт хрустальный.
А при падении разбил скулу.
Так умер Чаттертон, ребёнок Муз,
От Марсия, подкинутый эпохе,
Ценившей анекдоты, а не вздохи.
(И в этом есть определённый вкус!)
Он умер от того, что критик не
Воскликнул: "Ай, да Томас! Вот разгадка
Того, что нам Шекспир оставил вне порядка
И что Джон Донн надиктовал во сне."
Он умер от того, что ни один
Издатель, манускрипт его сжимая,
Не побежал, грозя в начале мая
Отмстить мирку засаленных седин
И лысин. От того, что кредитор
Хотел его сильней, чем ты, читатель,
Сейчас ворчащий: "Суета и вздор!
Поэту стыдно умирать вот так,
От недостатка стерлингов и славы.
Он обречён кропать свои октавы,
Качая радость мира на руках."
Да нет, поэтом просто стыдно быть,
И этот стыд такой же яд, как прочий, -
То время замедлять, то торопить,
Скрепляя рыбьим жиром многоточий;
Читателя искать по кабакам,
Где он проводит то же время в неге;
Служить безумцам, верить дуракам
И неусыпно грезить о ночлеге.
Накануне дня рождения
Чернеет парус одинокий на фоне моря.
Эгей в расстройстве свой бинокль бросает о скалу
И, проследив, как след бинокля
Средь волн разгладился, как пора,
Идёт к себе домой и зычно
Провозглашает: "Все - к столу!"
Чернеет парус одинокий. Тезей лукавый
Стоит, мечтает о престоле, мычит танго.
А я здесь мучаю сюжетец, извитый славой,
И в глубине меня просторно, но не легко.
Свой путь земной на три десятых пройдя по кругу,
Как карусельная лошадка, тебе твержу:
Храни меня, свою заботу, свою подругу,
Свою смешливую условность приготовленья к рубежу.
Не долетит стрела Амура до середины
Калифорнийской зимней ночи - падёт во тьму.
Другие маленькие боги щекочут спины
И моему сопротивленью и милосердью твоему.
Другие боги, вроде мошек балтийским летом,
Висят над нами, лёгким шаром, на тонкой синеве,
И говорят: о том не думай! не плачь об этом!
Всё сплыло. К немоте - по Лете. К заливу - по Неве!
Профпригодность
Так возникает впечатление,
Кощунственное, может быть,
Что это Бог из обращения
Тех изымает, чьё отсутствие
Нам интересней, чем присутствие,
Чтоб нас развлечь и обучить.
Я также помню, как с подругою
Мы сочиняли некролог
О том, кто только что порукою
Существованья моего
Был, оправданием и мукою
Физической, но торжество
Игры смешной в словодвижение
Меня уже несло к решению
Спросить, любила ль я его?
Не помню. Над его могилою
Росли венки сонетов и
Гирлянды од с животной силою.
Он стал адонисом, орфеем,
Вийоном, байроном, рембо...
Во снах не вижу я его.
Во сне другого обнимая,
И с новой резвостью любя,
Я торопливо понимаю,
Что нет здесь места для тебя.
Тебя, лицо моё второе,
Моё единое число,
Я предала судьбе Героя.
Восславим наше ремесло.
Полонез Огиньского
Я полюбил и ранние вставанья
Андрей Егунов
В семь утра отправляюсь на работу,
Надо мной гардении, мимозы
И пахучие шары магнолий.
По пятам за мной несутся белки.
Ну, а надо мной дрожат колибри
В воздухе невинном и холодном.
Знаю точно: у персидской лавки
Негр слепой автобусы встречает.
Прохожу здесь слишком рано, чтобы видеть,
Кто же выйдет болезному навстречу.
Только я приближаюсь к спортплощадке,
Как немедля зажигаю сигарету,
Постепенно вспоминаю своё имя,
Пол, и возраст, и, естественно, гражданство.
В семь утра с этим миром ты на равных.
Ты - рабочая косточка Адама.
Ты - подснежник на могиле акмеизма.
Впрочем, что я - здесь снега не бывает,
Акмеизм здесь ничего не значит,
Все здесь пишут длинные верлибры.
Я здесь - чемпион по жмуркам-пряткам.
Я здесь спряталась от разговоров в полночь,
От знобящих объятий на рассвете
Под шипенье хабариков последних,
От решения судеб своей отчизны
Меж коленями пророков обветшалых,
От азартных прений, кто здесь гений -
Ты, Хлопушкин, или я, Кукушкин...
Через три минуты я калитку
Отопру потихоньку-полегоньку,
Оборотнем проскользну в светлицу
И начну свою смену трудовую,
Прошлой жизнью эту ненавидя,
Новой жизнью прошлую жалея.
Всё оказалось так,
как и предсказывала
Наталья Марковна
С дождём калифорнийским, винным,
Цветочным, пряным, плодородным,
Мешаю слёзы о невинном,
И вечно пьяном, и голодном.
Трансатлантические бури
Мешают продвиженью тени
На юго-запад по лазури.
Мой крут здесь хлеб, горьки ступени,
Вино здесь стынет, как и в Томах,
И скифы какают в кафе,
И мысль, начавшись с "Как там, дома?",
Ведёт к затянутой строфе.
И ты мне в этом не помощник,
Как, впрочем, никогда ни в чём,
Мой пересмешник, мой раёшник,
Железный век, четвёртый сон.
Друг милый, предадимся бегу
Неторопливого коня
По кличке Блед, России, снегу,
Но без тебя и без меня.
Перемены
Я стану учиться в Беркли.
Чему? Всё равно, чему.
Мимоз золотые ветви
Прильнут к моему челу.
Все нищие с Телеграфа,
И все богачи с холмов,
И, в качестве тени, папа
Устроили этот кров
Для той, что, живя на свете,
(Одна, говорю, одна)
Попалась в свои же сети,
Как взгляд в водоём окна.
Там - музыка от часовни,
Там - белок то прыг, то бег.
Так можно ли быть спокойней,
Чем конченный человек?
Я кончена в прошлом виде,
Столь несовершенном, что
И паспорт, тиснённый в МИДе,
"Не та, - говорит, - не то..."
Закончив своей отчизне
Покорность и кончив от
Внедрения страшной жизни
В сознание, как в живот,
Я в Беркли учиться буду,
Я буду учить теперь
Себя, изменяя чуду
С незначимостью потерь.
Молитва II
Господи, снизойди до меня своею печалью
В этот блестящий полдень, этой прозрачной ночью,
А то я уже забыла, как это бывает.
Как мы с моею любимой девочкой, уходя в молчанье,
Скребли по банке сгущёнки фамильной ложкой,
А на Литейном ширился гром трамвая.
Как мы потеплей одевались и направлялись к Саду,
Покрикивая на сумасшедшую улыбчивую собаку,
Подстерегавшую утку и караван утят.
Как, выходя к каналу, огибали ограду.
Как наощупь двигались по осеннему мраку.
Как жизнь моя мне казалась
Списанной с тебя, написанной для тебя.
Как мы беспощадно шутили о наших любовниках,
Лица их еле помнили, путали имена.
И точно так же шутили о наших покойниках,
Легкомысленно нас покинувших, оставивших нас на...
Долго ставили чайник, резали сыр и булку,
Открывали Поплавского на самом длинном стихе.
Собака блаженно жмурилась, вспоминая прогулку,
Волны на воспалённой наводненьем реке.
История ритма
Когда подъезжает к границе
Какой-нибудь русский поэт,
Становится он Ходасевич
Уже на таможне. Когда
К холодном его самолёте
Дрожит неуверенно свет,
Он смотрит тоскливо на землю,
А вместо земли там - вода.
Когда же, как поздний ребёнок,
На твердь выскользают шасси,
Наш друг, безутешен и тонок,
О глупом его не проси.
Не тычь его в морду селёдкой
И пивом его не пои.
Он - стебель стальной и короткий
Той розы в бокале аи.
Он кто-то в Берлине прогорклом,
И некто в Париже глухом.
Он нет, не здоровался с Горьким,
Скорее дружил с Пильняком.
Смешно: эмигрантская пресса
Бессмертью его ни к чему.
Берберова, как стюардесса,
Всегда улыбалась ему!
Он изгнан безумной страною,
Но это пройдёт у страны.
Как Йорик - сродни перегною
И как Дездемона - верны
Читатели в чутком потомстве
От песен его заболят.
Воскреснут румяные музы
В кокошниках и соболях.
Сфальшивит парижская нота
От горестных звуков его...
А я тут встречаю енота
И очень боюсь за него:
Он перебегает дорогу
Под визг электрических звёзд,
Хромая на заднюю ногу,
Влача перерубленный хвост.
Моё настоящее в этом
Упорном еноте, а не
В желаньи считаться поэтом
В прекрасной, но дальной стране.
Моё вожделенье - получка
По пятницам. А по средам
Не скука, а горькая скучка
Над вами, София, Адам,
Скабрёзные Жоржик и Вячик,
Болезные Осип, Роальд...
(История ритма!) - как мячик
Колотитесь вы об асфальт,
А мы наблюдаем с енотом,
Дорогу уже перейдя,
Как в гущу машин выбегает
За мячиком вашим дитя.
Una furtiva lagrima, или 26 января 1996 года
Кошка, облитая кислотой, дует на снег.
(Химик коварный её прикормил - вот результат.)
Было явление мне нынче во сне,
Будто в каком-то условном году - память назад! -
Жил император, алхимик, знаток
Милых чудес.
Днём он ходил на каток
И держал локоток
Спутника, а по ночам...
А потом он исчез.
Спутник, стекая рыданьем, кричал: "Колобок!
И от меня и от Луция Афра убёг,
И от Корнелии, и от Коринны, стервец!
Плесень ползёт во дворец!"
Рядом лежавший проснулся, услышав меня.
Слёзы мои торопливо пила простыня.
Как-то картинно дрожала моя голова,
В руку лежащего рядом дышала слова:
"Не уходи, император, алхимик,
Флегматик с фальшивым лицом,
Кончивший прямо в могилу,
В агонии ставший отцом,
Бывший отцом этой братии -
Тусклой, губастой, рябой.
Не уходи, или лучше,
Значительно лучше -
Возьми нас с собой.
Нету тебя без тебя
Философский твой камень - фигня
Ты совратил, когда было одиннадцать мне,
А теперь - без меня?!
Ты совратил меня буквой своей
С козырьком и пузцом,
Питерских чёрных аллей
Летаврическим чудо-дворцом,
Миром, воспетым тобой,
Ты ноги раскрыл, как сердца.
Я, как известный кузнечик,
Ждала ли такого конца?
Я - Магдалина, Мария,
Я - Пётр, я - злосчастный петух,
Трижды смущавший евреев
Разборчивый слух.
Сны-предсказанья-стихи-похорон-беготня.
Я ненавижу тебя без меня и себя без меня".
* * *
Поставь мне Генделя - я под него усну.
Я так использую музыку,
Как фикса - слабую десну
И как глухонемой - заику.
А кокаина розовая дрянь?
И алкогольные восторги?
А маленькая ложечка касторки? -
Нет, всё не музыка и не утишит ран
Я потому живу, что я жива,
Других не будет объяснений,
И я плыву к себе, как острова
В каком-то главном из течений.
Чем старше музыка, тем ниже облака,
Тем абсолютнее природа,
Тем больше ты похож на рыбака
И я - на морехода.
Ты знаешь, что внутри твоих сетей -
Наш день сегодняшний, наш хлеб и наша сила.
Я знаю, что в конце моих путей -
Всё то, чему меня учила
Ночная музыка - спокойный разговор
С недостижимыми сегодня.
Гудит их бережный, их сокровенный хор,
Грядёт ирония Господня.
Чёрный ход
Кто о чём говорит.
Кто ни о чём говорит.
А я говорю о том,
Что горит, горит
сердце моё в
направленьи тебя,
словно шнур бикфордов,
тлеет, словно июль торфяных болот
... сей сантимент не старится, но живёт...
В той комнатушке в Гарлеме было черным-черно
или (напишем маме) сине и брозовато.
Там деликатно было закопчено окно,
а из матрасов нагло торчала вата.
Там было две кровати,
необъяснимый факт:
вряд ли такое место знает о целибате.
Комната, город, вечер - всё вызывало страх.
Страх и желанье. Ибо, в конечном счёте,
Страх и желанье - вот что такое мы.
Всё остальное тратится на дневное
прозябанье. Мы - части тела, выступающие из тьмы,
Давящие то на сладкое, то на больное.
Люди были печальны, а пружина бодра.
Даже спинка кровати постанывала и сипла,
И когда я тебя растолкала в половине восьмого утра
Ты сказал: "Примерно так бедняжки под слоем пепла
Просыпались в Помпеях, и только, взглянув в окно,
Понимали, что всё - попали, пропали, влипли".
Гарлем - рай крематориев. Там как бы слегка темно
Даже утром, и кажется, будто в пепле,
Дёгте, трауре, саже и прохожие и дома
В духе Новой Голландии, в смысле кирпич и трубы...
Аборигены оборачиваются на тебя так, что и я сама
Оборачиваюсь на тебя - и облизываю каменеющие губы
Томас Чаттертон (1752-1780), автор стихов, написанных от лица Томаса Роули, вымышленного поэта XV-го века, а также пьесы-бурлеска "Месть". Полное собрание сочинений Чаттертона, впервые вышедшее в свет в 1803 году, многократно переиздавалось. (Прим. автора)
| Пишите нам: info@gazeta.ru Copyright © Gazeta.Ru |
| При перепечатке и цитировании ссылка на источник с указанием автора обязательна. Перепечатка без ссылки и упоминания имени автора является нарушением российского и международного законодательства, а также большим свинством. |